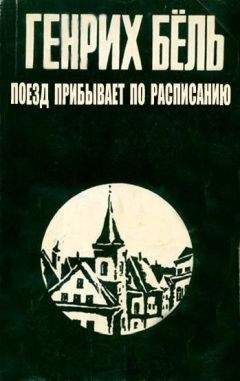Обезумевшие от страха полицейские стреляли в любого, кто оказывался в поле их зрения, будь то женщина или безобидный ребенок. Толстые сосновые стены укрыли их от пуль восставших, но от огня не могли спасти и они. Стоявший поблизости стог соломы вмиг был разобран на увесистые охапки, и пока одни палили по окнам, другие разложили ее под стенами дома.
Желая остановить бессмысленное кровопролитие, Гузаков предложил осажденным сложить оружие и сдаться. На его предложение те ответили ожесточенной стрельбой изо всех окон. В среде осаждавших появились новые убитые и раненые. Тогда в солому полетели горящие факелы.
— Смерть убийцам наших товарищей!
— Выкуривай огнем кровопийц!
— Бей «синих крыс»!..
Из горящего дома выскочило несколько смутно различимых в дыму фигур.
— Гляди, мужики, да это никак наш господин урядник собственной персоной!
— Да с ним тут весь его выводок: и жена, и дети. Что прикажешь делать, Михаил?
— Жену и детей отпустить на все четыре стороны, а урядника связать! — приказал Гузаков.
Пока возились с урядником, стражники вырвались из горящего дома и, отстреливаясь на бегу, кинулись к лесу. Пока преследовали стражников, сбежал урядник. Впрочем, далеко уйти ему не удалось: где-то на задворках его обнаружили симские бабы и так отделали коромыслами, что выбили из служаки не только его полицейскую спесь, но заодно и его подлую душу.
Теперь, когда в поселке не осталось ни одного представителя старой власти, а страсти победителей несколько улеглись, появилась возможность обдумать происшедшее. О нем, надо полагать, уже знают на соседних заводах, а то и в самой Уфе, так что с часу на час со стороны станции нужно ожидать солдат и казаков. Расправа, конечно, будет жестокой, и надо сделать все, чтобы по возможности уменьшить ее слепую карающую силу.
Потом, как всегда, будет суд. Но судить будут не тех, кто поднял оружие на народ, не тех, кто убивал, а тех, над кем измывались веками, кого убивали сегодня.
Мертвым не страшно: они уже никому на земле не подсудны. Но как быть с ранеными? Раненых легко Михаил приказал перевязать и укрыть по домам. Товарищей с тяжелыми ранениями свезли в больницу. За них сердце болело в первую очередь: как отнесутся каратели к ним? Неужто и на беспомощных поднимется подлая рука насильников и убийц?
Михаил обошел всех, кто находился в больничных палатах, каждому сказал теплое ласковое слово, каждого, как мог, ободрил. У койки Алеши Чевардина задержался дольше всех. Раненый одним из первых, Чевардин потерял много крови и теперь лежал без сознания. Когда Михаил уже поворачивался, чтобы уйти, тот на минуту очнулся. Тонкие бескровные губы слегка дрогнули в улыбке, в глазах затеплилась пригасшая от боли синева.
— Как там, сотник, чья взяла?
— Завод и поселок наши. На улицах — ни одного «фараона».
— Совсем — ни одного?
— Совсем, Алеша. Считай, что революция в Симе победила.
— Хорошо! Всю жизнь об этом мечтал…
— Но скоро здесь будут казаки!
— Все одно — хорошо…
Чевардин был настолько слаб, что даже этот короткий разговор отнял все его силы. Помолчав, он глазами попросил Михаила наклониться и горячо прошептал:
— А теперь, Миша, уходи. В лес, в горы, в другие края — до лучших времен. Спасибо тебе за все. И прощай.
— А как же вы? — вспыхнул Михаил. — Как могу я бросить вас теперь? На муки, на растерзание палачам?
— Уходи, так будет лучше всем. А народ… он, Миша, все превозмогет… и возьмет еще свое… не горюй…
На крыльце больницы фельдшер в окружении толпы женщин осматривал раненого мальчика. Помогала ему рослая стройная девушка в белом халатике и такой же белой косынке. Увидев Гузакова, она кинулась к нему.
— Миша! Да пустите же меня к нему!.. Миша!..
Растолкав баб, девушка сбежала вниз и, бледная, с глазами, переполненными слезами и ужасом, заслонила ему дорогу.
— Что ты наделал, Миша? Посмотри, сколько смертей, сколько крови вокруг! Неужели одной могилы твоего отца было мало? Зачем понадобилось еще это? Зачем, зачем?
Это была Мария.
Михаил качнулся ей навстречу, не способный от радости сразу вникнуть в смысл ее слов, но она жестом остановила его.
— Посмотри, на руках моих кровь. А сколько ее там, на заводском дворе и на площади! К чему все это? Чего ты добился, кому и что доказал?
Когда он понял, наконец, в чем обвиняет его эта красивая растерянная девушка в белом, девушка, которая этой осенью должна была стать его женой, все в нем возмутилось и заклокотало.
— Что ты говоришь, Мария! Разве это я стрелял? Разве это мы стреляли? И вообще, где ты была, когда эти драконы-опричники расстреливали нас на заводском дворе?
— На похоронах твоего отца я была, Михаил. Там, где не было тебя…
— Так и в этом, по-твоему, виноват я? Не они, а я? Я?
Это было так несправедливо и жестоко, что спазмы сдавили горло и туман застлал глаза. Чтобы этого не заметили, Михаил грубо спихнул ее с дороги и быстро зашагал прочь, к поджидающим его боевикам.
Те в это время оживленно обсуждали волновавший всех вопрос: что делать дальше? Радость победы была огромна, жажда сразиться с карателями — еще больше, но беда — мало оружия. Десяток револьверов, столько же охотничьих ружей — разве же это сила против царева войска? Не сила, конечно, это понимали все, но не сдавать же поселка просто так, за здорово живешь? Не об этом мечтали, не к этому готовили себя эти ребята.
Не вступая в разговор, Михаил направился в заводскую контору. Здесь были люди повзрослее его боевиков, мужики опытные, рассудительные, умеющие трезво, без излишнего задора оценить обстановку. И оценили они ее правильно.
— Расходиться пора, Михаил. Нам по домам, тебе — куда понадежнее. Дорого нам эти часы свободы достались, но теперь-то мы хоть знаем, что это такое. Знаем и не забудем никогда!
На его уходе настаивали все.
— Не бежать уговариваем, а сберечь себя для будущего. Или, думаешь, на этом все уже и решилось?
Михаил не перечил, знал: правильно рассудили земляки. Приказав своим боевикам сегодня же снова «рассыпаться», он сел на приготовленного для него коня и поскакал вон из поселка. На кладбище он нашел свежую могилу отца, молча постоял у изголовья, потом низко поклонился, взял коня под уздцы и тяжелым медленным шагом вошел в лес.
Эту первую ночь в Уфе Иван запомнит надолго. От товарища Вари его увела высокая неразговорчивая девушка с усталым строгим лицом и выбивающимися из-под платка рыжими волосами. Поводив с полчаса по улицам, она сдала его какому-то семинаристу — картавящему и заикающемуся, а потому тоже весьма молчаливому. Семинарист оказался большим любителем везде и всюду срезать углы. Он долго таскал его по каким-то проходным дворам и переулкам, пока не вывел снова к дому товарища Вари.
— Я уже был здесь, — устало предупредил Иван.
— Вы были у Варвары Дмитриевны? — неожиданно пространно удивился тот и повел его дальше.
Они опять долго плутали дворами, обычно, наверное, очень грязными, но сегодня с вечера все крепко прихватило морозом, и это замечалось меньше.
На Аксаковской улице любитель срезать углы сдал его другому молодому человеку, весьма приятному и не менее молчаливому. Этот темным дворам явно предпочитал праздничные фейерверки и вел его под самыми яркими фонарями, по самым центральным улицам. Свернув в одном месте направо, а в другом налево, они преодолели глубочайший овраг, в темноте перелезли через шаткую изгородь и постучались в чье-то окно.
Их провели в комнату, наполовину заполненную кочанами свежей капусты, где их встретил очередной товарищ — невысокий, кряжистый, белобрысый, с веселыми смеющимися глазами. Внимательно оглядев новичка и пошептавшись о чем-то с его приятным провожатым, он мигом оделся, весело подмигнул Петрову, и они опять пошли.
Весельчак оказался самым обыкновенным парнем, без всяких причуд. Всего за каких-то полчаса он провел его через весь город, поболтал с ним о том, о сем и сдал своему дружку на тихой улочке возле величественного даже ночью кафедрального собора. Правда, ночь к этому времени уже кончилась, но зато дальше его уже не повели. Дружок весельчака ввел его в дом, бросил на пол матрас, одеяло, подушку и, прежде чем исчезнуть, по-свойски похлопал по плечу:
— Здесь, товарищ, можешь чувствовать себя как дома. Ложись и спи. Как выспишься, поговорим.
Сколько он проспал тогда — сутки, двое? Во всяком случае не меньше, потому что поднялся совершенно свежим, молодым и сильным. Симпатичная, немного полноватая хозяйка, назвавшаяся безо всякой конспирации Александрой Егоровной, едва дождалась, пока он умоется и приведет себя в порядок. Стол у нее уже был накрыт и ждал его, и чего на нем только не было: и жаренная на свином сале картошка, и домашняя колбаса, и румяные творожники, и дымящийся ядреный чай… Забыв обо всем на свете, он накинулся на еду. Ел быстро, остервенело, некрасиво, но ничего поделать с собой не мог. Лишь когда стол опустел, поднял на хозяйку виноватые глаза и смутился еще больше. На мгновение ему показалось, что перед ним сидит его родная мать. Ведь только у матери могут быть такие внимательные, теплые и жалостливые глаза. Ему показалось даже, что она знает его давно-давно, знает и видит насквозь, и таиться от нее бесполезно.